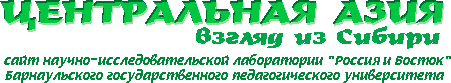|
Выполненные и текущие
проекты В.С. Бойко Центрально-азиатский макрорегион, или, по одной из научных терминологий, Большая Центральная Азия, - одно из крупнейших поликультурных и полиэтнических образований, претерпевшее на протяжении веков многочисленные национально-государственные и международно-политические перестройки. Одним из его немногих системообразующих элементов стало распространение ислама, а также действие ряда геополитических факторов (буферное положение между мировыми империями нового и новейшего времени, экономгеографические параметры и др.). Нынешняя Большая Центральная Азия (бывшие республики южного пояса СССР, северные регионы Ирана и Афганистана, Синьцзян, Монголия, а также южносибирские окраины России и часть Поволжья) формируется как один из центров мирового соперничества за природные ресурсы, солидный человеческий потенциал и выгодные торговые маршруты между Европой и Южной Азией, а также восточными анклавами АТР, включая Японию и США. Формула и механизмы классической "Большой игры", некогда применяемые здесь Британской империей/США, с одной стороны, и Россией/СССР, с другой, существенно изменились, особенно за последнее десятилетие, за счет институциализации новых глобальных и национально-региональных структур экономического, геополитического и военного характера, динамики их стратегии и субъектного состава. Сегодня в пределах центрально-азиатского политико-географического пространства функционирует множество суб- и даже микросистем, возникших после распада СССР и общего изменения баланса мировых и локальных сил. Так, неокоммунистический президентский режим России уже около десятка лет пытается создать вместо СССР жизнеспособное содружество независимых государств - СНГ, но, поглощенный внутренней политической борьбой за выживание и экономическими неурядицами, теряет поддержку еще недавно лояльных партнеров, таких, как Узбекистан. Некоторые азиатские партнеры России по СНГ уже основательно вовлеклись в другие, интерферентные или даже конкурентные межгосударственные и негосударственные связи в рамках ООН, ОИК, НАТО и т.п., либо тяготеют, по существу и организационно, к независимым подходам и решениям (Туркменистан). Однако близость исторических судеб и особенно сегодняшние геополитические вызовы побуждают нестройную компанию СНГ выступать с согласованными инициативами по наиболее актуальным проблемам Центрально-азиатского макрорегиона. Одной из них является не стихающая уже 20 лет гражданская война в Афганистане и связанный с ней комплекс экономических, гуманитарных и других проблем, самым непосредственным образом влияющих на ситуацию в странах СНГ. Цель данного сообщения - рассмотреть основные направления, формы и методы политики стран СНГ (в данном случае - России и новых суверенных государств Центральной Азии) в отношении Афганистана на протяжении последних нескольких лет и даже месяцев, когда афганский конфликт приобрел наиболее ожесточенные формы борьбы на уничтожение целых этнических и конфессиональных групп, и в тоже время наращивались миротворческие усилия международного сообщества и его отдельных членов, групп, институтов. Источниковую базу сообщения составили материалы ведущих периодических изданий общего и специального профиля, выходящих на Западе и в исследуемом регионе, главным образом их электронные версии, оригинальные документы и аналитические разработки научных центров и экспертных групп (в ряду наиболее авторитетных зарубежных авторов следует упомянуть Б.Рубина, А.Хаймена, М.Б.Олкотт, отечественных - Ю.Ганковского, В.Белокреницкого, В.Коргуна), беседы автора с некоторыми представителями научных, дипломатических и политических кругов США и государств Центральной Азии. Афганская политика стран СНГ определяется сложной иерархией приоритетов, в которой переплетаются их собственные и международные интересы, а также развитие обстановки в самом Афганистане. Распад СССР облегчил приход к власти в Кабуле исламистов, - более того, Россия по крайней мере индифферентно отнеслась к участию в свержении режима Наджибуллы его новых оппонентов в лице узбекской милиции генерала Дустума и группы "парчамистов" Б.Кармаля. Совокупным результатом затянувшейся гражданской войны и исчезновения советского фактора стало восстановление исторического статуса Афганистана как некоего перекрестка мировой торговли, а главное - предмета вожделений региональных держав и подвизавшихся с ними теневых субъектов различного калибра. Государство, с великим трудом и небескровно достигшее к началу ХХ в. территориальной и, в меньшей степени, - политической определенности, - лишилось не только своего относительно выгодного буферного положения, но и фактически превратилось в некую "серую зону" (М.Манвариг), лишенную адекватных властных структур и форм жизнедеятельности. "Разрыхление" институциональной структуры двусторонних и многосторонних связей Афганистана привлекло сюда многочисленные транснациональные промышленные и мафиозные круги, политические и военные группировки/кланы заинтересованных стран, - появился уникальный полигон военных операций и рынок оружия, гигантская мастерская наркопроизводства. Дополнительный интерес вызывали и тамошние, весьма впечатляющие запасы полезных ископаемых: медных руд, а возможно, и золота в Кабульской области, лазурита в Панджшерской долине, топливно-энергетические богатства афганского севера. Уже в начале и особенно в середине 1990-х гг., началась битва американских и международных монополий за "открывшуюся" часть Центральной Азии (турк- менские нефть и природный газ и т.д.), и Афганистан оказывался важным элементом гигантского экономического проекта транспортировки туркменских богатств в Южную Азию и далее на восток, как более выгодный, по сравнению с Ираном, маршрут. Несмотря на непрекращающиеся военные действия, доминирующее в стране движение талибан предприняло неквалифицированные, но настойчивые усилия по налаживанию сотрудничества с американской корпорацией Unocal - ядром так и не состоявшегося международного консорциума (в нем предполагалась и 10% доля российского Газпрома), аргентинской BRIDAS и другими, полагая, что так в конечном счете ему удастся легализовать собственную власть. В структуре афганской политики стран СНГ особое место занимает Россия: периодически подчеркивая свое правопреемство с СССР, режим Б.Ельцина фактически проигнорировал все советские обязательства в отношении Афганистана и практически свел на нет публичность своих соответствующих действий. Вместе с тем, есть данные о взаимосвязи несанкционированного российского вмешательства в афганские дела с чеченской авантюрой: доходы от продажи оружия борющимся в Афганистане группировкам давали необходимую "подпитку" чеченской войне. С приходом к власти в Кабуле и на большей части страны талибов и последовавшими за этим этническими чистками в Мазари-Шерифе Россия усилила анти-фундаменталистскую риторику и поддерживала конкурирующий Северный альянс национальных меньшинств Афганистана, до сих пор считающийся законной властью, но есть некоторые основания считать, что, при определенных условиях, не исключается и признание режима Исламского Эмирата талибов. В кругах экспертов, однако, распространены мнения, что стабилизация обстановки в Афганистане, как и во всей Центральной Азии, не соответствует российским интересам, ибо чревата экономической и политической изоляцией.1 В афганской политике России есть немало очевидных и менее очевидных измерений (гуманитарное, экономическое и др.). Так, на российской территории на закате советской эпохи и уже в постсоветские времена скопилось несколько сотен тысяч афганских беженцев и мигрантов до сих пор не определенного статуса - неоспоримое наследие недавней истории. Они превратились в "невидимое", игнорируемое властями меньшинство, хотя переживают все катаклизмы российского квазикапитализма наравне с большинством россиян, а фактически, в правовом и моральном отношениях, и труднее их. Эта многотысячная страта - одно из немногих сообществ афганской диаспоры, могущих еще вернуться на родину и использовать там свой немалый и уникальный опыт выживания в экстремальных условиях. Они же - своеобразный мост будущего российско-афганского сотрудничества ХХI века. Несколько неожиданным для неискушенного наблюдателя может показаться сибирский ракурс российско-афганских отношений, - в действительности же обе стороны имеют некоторый опыт межрегионального сотрудничества, который может пригодиться в нынешних условиях децентрализации внешнеполитических связей. Так, еще в 80-е гг. многие алтайские предприятия производственного профиля, например, Алтайстрой, возглавляемый нынешним губернатором края А.Суриковым, немало сделали для развития инфраструктуры и экономики северных регионов Афганистана, в Барнауле обосновалось несколько сотен этнических афганцев, посильно участвующих в местном малом и среднем бизнесе. При нынешнем геополитическом положении России, не имеющей с Афганистаном общей границы, Алтай оказывается одним из ближайших, через полосу новых государств Центральной Азии, пунктов будущего взаимодействия. Гигантский объем предстоящего восстановления Афганистана усилиями всего международного сообщества предполагает и участие российской стороны, - как исполнителя некоторых международных и собственных проектов. Здесь мог бы пригодиться отлаженный алтайский опыт молодежных строительных отрядов, - идею участия в безвозмездном восстановлении Афганистана местные ветераны афганской экспедиции высказывали еще в 80-е гг. На государственном уровне Россия координирует афганское направление своей внешней политики практически со всеми заинтересованными сторонами, и прежде всего СНГ, - в рамках его полуэфемерных структур, но более - по международной формуле (6 + 2), включающей три постсоветских государства Центральной Азии, Иран, Пакистан, Китай, а также пару Россия - США. Однако и предыдущие, и последний плод совместных усилий группы "6+2" - Ташкентская декларация от 21 июля 1999 г. "Об основных принципах мирного решения конфликта в Афганистане" - пока не дали желаемого эффекта - мира в Афганистане. Собственную миротворческую активность в этом деле проявляет Туркменистан, даже не имея общей границы, открытые хозяйственные связи налаживает с режимом талибов Казахстан2, - казахская дипломатия весьма недовольна своим положением второго эшелона региональной афганской политики и даже готова выступать здесь в тандеме с Пакистаном. Совершенно очевидно, что гармонизации усилий стран - членов СНГ в их афганской политике мешают как их специфические внутренние и внешнеполитические проблемы (перманентный политический кризис в России, вспышки этно-политического противостояния в Таджикистане, политико-религиозные эксцессы в Узбекистане и совсем недавно - в Киргизстане), так и широкомасштабные проекты стратегического освоения Большой Центральной Азии, осуществляемые Западом, прежде всего США, а также самими ключевыми державами этого и соседних регионов, по ряду позиций конкурирующие с СНГовскими и прямо или косвенно препятствующие выработке солидарного решения афганской проблемы.
|