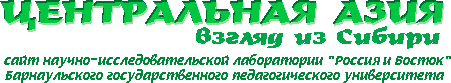|
В.С. Бойко Автор выражает глубокую признательность профессору Р.Фраю за любезно предоставленные неопубликованные биографические и другие материалы, а также за возможность ознакомиться с его личным архивом, хранящимся в Гарвардском университете. В ряду выдающихся востоковедов новейшего времени видное место занимает Ричард Нельсон Фрай, ныне почетный профессор Гарвардского университета. Р.Фрай родился 10 января 1920 г. в США в семье шведских эмигрантов, и его приобщение к Востоку было случайным, но судьбоносным: двенадцатилетний подросток из маленького городка Дэнвилль, штат Иллинойс, увидел в местном книжном магазинчике книгу Г.Лэмба о Тамерлане и был навсегда очарован экзотикой дальних миров. К двадцати с небольшим годам он получил фундаментальное востоковедческое образование. Первой ступенькой на этом пути стал университет его родного Иллинойса, - здесь Р.Фрай изучал еврейский и греческий языки. Летом 1938 г. он перебрался в Принстон, - тамошний университет был в то время единственным в США местом, где преподавались персидский и турецкий языки, открывшие молодому востоковеду мир Центральной Азии. Но восточной окраиной этого гигантского региона был Китайский Туркестан, и в 1939 г. Фрай, ставший уже студентом Гарварда, по совету директора Йеньчиньского института изучения Восточной Азии Сергея Елисеева1 принимается за классический китайский. С этого момента и началась его гарвардская эпопея, продолжающаяся, с перерывами, уже более 60 лет: здесь в 1946 г. он защитил докторскую диссертацию по средневековой истории Бухары, чуть позже начал преподавать комплекс дисциплин Среднего Востока, с 1958 г. и до недавнего времени занимал престижную должность профессора иранистики, специально учрежденную фондом Ага -хана. В профессиональную судьбу Р.Фрая внесла свои коррективы вторая мировая война: в декабре 1941 г., через несколько дней после нападения Японии на США, он был командирован в Вашингтон, где в структуре научно-аналитического отдела управления стратегического планирования американской армии срочно создавался афганский сектор ("стол"). С лета 1942 по 1944 гг. Р.Фрай - в Афганистане, служебные дела он совмещает с преподаванием в лицее "Хабибия", тогда главном учебном заведении афганской столицы. Сравнительно недолгое, но культурно и профессионально насыщенное пребывание в этой стране позволило ему, востоковеду классического профиля, стать одним из первых и к тому моменту немногих американских экспертов по Афганистану - Р.Фрай побывал во многих уголках этой страны, хотя особый интерес проявлял к афганскому северу, где в Мазари-Шерифе, Бамиане и других местах афганского приграничья сохранились уникальные исторические памятники многоликой культуры Центральной Азии. На заключительном этапе войны зоной его ответственности стали советские дела, прежде всего отношения СССР со странами Среднего Востока. В 1946 г. Р.Фрай защитил в Гарварде докторскую диссертацию, но, даже получив высокую ученую степень, он продолжил образование в Школе востоковедения Лондонского университета. Его упорство и талант не остались незамеченными: последовали заманчивые предложения от целого ряда ведущих американских университетов, британского Кэмбриджа, библиотеки конгресса США, ЦРУ, учреждений ООН, но Фрай предпочел Гарвард, которому верен и по сей день. Ученый с мировым именем, он - частый и желанный гость за рубежом: в течение ряда лет руководил Азиатским институтом Пехлевийского университета в Ширазе (Иран), в качестве приглашенного профессора преподавал в университетах Германии, СССР и других стран. Его первая поездка в СССР состоялась в 1955 г, через 10 лет после подачи заявления о въездной визе, и с тех пор Р.Фрай многократно бывал здесь в качестве участника научных конференций, исследователя архивов и музейных коллекций, просто друга и гостя нескольких поколений востоковедов Ленинграда, Москвы, среднеазиатских республик. Основной сферой его научных интересов была и остается Большая Центральная Азия, которая рассматривается им как некое культурное единство, противоречивая дихотомия кочевых и оседлых народов и государств. По Фраю, все составляющие Большой Центральной Азии, будь то Восточная Персия, Восточный (Китайский) Туркестан или Алтай, - не что иное, как "пограничные" зоны/ культуры между главными оседлыми областями России, Китая, Индии и семитского Ближнего Востока. Будучи таковыми, они обладают специфическими характеристиками, - как места для укрытия униженных и оскорбленных, беженцев и др. Одним из немногих системообразующих (необязательно - скрепляющих) элементов этой гигантской и достаточно эфемерной общности стал ислам, хотя здесь сохранились и прежние духовно-культурные ценности. К числу "сквозных" осевых линий/черт центрально-азиатского феномена Р.Фрай относит особые формы ирригации, торговли и коммерческой деятельности как способы выживания тамошнего социума.2 Диапазон его научных интересов и пристрастий необычайно велик: средневековая история Бухары и Нишапура, американская политика на Среднем Востоке, взаимодействие западного и исламского миров, языки народов Центральной Азии и др. Жанровое и дисциплинарное разнообразие его трудов, арсенал исследовательских методов и круг используемых источников выдают в нем востоковеда-классика историко-филологического профиля, не замыкающегося, однако, на узконаучных проблемах отдаленного прошлого. Как отмечает сам Р.Фрай, " ... следует не только изучать прошлое для понимания настоящего, - исследователь прошлого должен выходить в настоящее, чтобы понимать историю"3. Его собственное "погружение" в текущие проблемы современного Востока - тому пример. Обращение Р.Фрая к современности - это и его гражданский, человеческий долг профессионала, остро сознающего проблемы сегодняшнего Востока, и желание мэтра поделиться с коллегами общефилософскими соображениями методологического плана. Характерным эпизодом в биографии Р.Фрая стали афганские события конца 1970-х - 1980-х гг. - он, известный историк-востоковед, оказался в их эпицентре. Буквально через несколько дней после ввода советских войск в Афганистан в конце 1979 г. Р.Фрай - уже на афгано-пакистанской границе (Пешавар), где он внимательно изучает ситуацию на месте, прислушиваясь к мнению простых людей в чайханах и, напротив, - осторожно относясь к заявлениям дипломатов и политиков, которые, по его мнению, часто действуют как "хладнокровные участники политических игр"4. Безусловно осуждая советскую военную акцию в Афганистане, Р.Фрай рассматривал афганскую проблему гораздо более масштабно, чем это делали многие, даже искренне озабоченные положением дел в Афганистане: он видел в ее хитросплетениях новый всплеск панисламистского движения, спровоцированного как новыми прокоммунистическими экспериментами на Востоке, так и давними нерешенными проблемами мусульманского мира, прежде всего палестинской. Афганские события, полагал Р.Фрай, просто подталкивают ответственные политические круги к быстрому решению палестинской проблемы, - это и насущная задача международного сообщества, и удержание (перехват ?) Западом стратегической инициативы на Востоке. Зимой 1980 г. профессор Фрай предпринял настойчивые, но малоуспешные посреднические усилия по налаживанию диалога внутриафганских сил под эгидой региональных держав - Индии, Пакистана, Ирана. Натолкнувшись на стену молчания, он апеллировал к общественности: по его инициативе на Си-Би-Эс был снят и в апреле 1980 г. показан по телевидению фильм о ситуации в Афганистане. Одновременно он обратился к своим друзьям и коллегам в СССР с предложением провести международную конференцию по афганскому кризису, - инициатива, не имевшая шансов при советском политическом режиме начала 1980-х годов. Симпатии Р.Фрая-миротворца неизменно оставались на стороне тогдашней афганской оппозиции, он был среди тех, кто призывал вашингтонскую администрацию оказать моджахедам всяческую, в том числе и военную, помощь, но - предназначенную для обороны (средства противовоздушной и противотанковой защиты, переносные рации, миноискатели и т.д.). Вашингтонские же политики стремились извлечь дополнительные дивиденды из афганского конфликта: в своем запоздалом ответе Фраю в июне 1980 г. конгрессмен С.Стрэттон подчеркивал: "...[надо] сделать все, чтобы осложнить положение Советов в Афганистане: чем дольше мы сможем удерживать здесь увязнувших русских, тем больше времени будем иметь для создания оборонительной системы в Персидском заливе и зоне Индийского океана".5 Летом 1980 г. появился американо-британский проект создания афганского правительства в изгнании на территории Египта, - египетский президент А.Садат, попавший в международную изоляцию после подписания с Израилем Кэмп-Дэвидских соглашений, был готов предоставить такую услугу в обмен на западную военную помощь. Но афганцы, даже при своей многолетней отстраненности от арабо-израильского конфликта, подвергали себя риску лишиться поддержки других государств арабского мира, и это при том, что один из первых лидеров альянса афганской оппозиции А.Р.Сайяф был креатурой вахаббитского режима Саудовской Аравии. Р.Фрай был, вероятно, одним из авторов и исполнителей "египетского" плана, который, судя по имевшемуся в его личном архиве проекту заявления о создании афганского правительства в изгнании, выглядел политически обещающим, хотя и не был претворен в жизнь: предполагался созыв всеафганской Лоя Джирги на основе конституции 1964 г, гарантии против произвола центральной власти, создание двухпартийной политической системы и проведение свободных выборов, предоставление автономии племенам и деление страны на естественные штаты. Он предложил также целую политико-пропагандистскую программу действий на афганском направлении: постоянный прессинг в отношении кабульских властей и их советских покровителей, советского военного контингента в Афганистане, предоставление оружия исламской оппозиции и вообще широкомасштабную поддержку панисламистского движения - конгрессов и других акций и форумов, в которых бы принимали участие представители государств с исламским населением, включая республики советской Средней Азии и Кавказа, а также КНР. Здесь же повторялся известный тезис Р.Фрая об удвоении усилий по решению палестинской проблемы как одной из основополагающих предпосылок стабилизации обстановки в исламском мире.6 Этот и другие эпизоды его биографии 1980-х гг. в некоторой степени характеризуют как прозорливость, так и заблуждения (по поводу позитивного потенциала панисламизма, лидерских качеств А.Р.Сайяфа) одного из опытнейших знатоков и экспертов исторического и современного Востока, по-своему видевшего выход из афганского тупика, - Р.Фрай, несомненно, имел основания сделать в своих рабочих бумагах по афганской войне примечательную запись: "Я был основателем Союза Свободного Афганистана"7... Дальнейший ход афганских событий и обострение гражданской войны в 1990-е гг. заставили многих наблюдателей и специалистов-востоковедов пересмотреть взгляды на суть афганского феномена и его отдельных компонентов: доминирующее ныне в стране движение талибан демонстрирует неспособность преодолеть свой политический экстремизм и вытекающую отсюда международную изоляцию, а Афганистан превратился в опасный очаг региональной нестабильности, наркобизнеса и плацдарм международного терроризма. Причина такой эволюции заключается, видимо, в том, что и само большинство афганского народа, и романтики, и трезвые приверженцы демократии во всем мире, к которым принадлежит и профессор Фрай, по тем или иным причинам уступили место в афганских делах транснациональным военно-промышленным и политическим кругам, цинично рассматривающим Афганистан как выгодный рынок сбыта оружия и полигон других видов незаконного бизнеса, лишенный привычных форм государственности и национальной безопасности. Уже не одно десятилетие спутницей жизни и ближайшим коллегой патриарха американского востоковедения является доктор Иден Наби, автор ряда оригинальных работ по современному Афганистану и Центральной Азии; такие союзы-тандемы - не редкость в мировой науке, но чрезвычайное благо в ориенталистике: "совместное предприятие" Р.Фрая-И.Наби произвело десятки научных, культурологических проектов и общественных инициатив, хотя и сохранило индивидуальный облик каждого из его членов. Высочайший профессионализм исследователя-универсала и личностный динамизм позволяют Р.Фраю не только точно улавливать тенденции текущей истории, но и перспективы завтрашнего дня. Рассуждая о проблемах сохранения культурной идентичности человека в эпоху глобализации, он подчеркивает силу экономических императивов современного мира, чрезмерное влияние которых должно быть уравновешено самой культурой. Человечество выработало на протяжении своей истории различные виды идентичности: племенную, религиозную, лингвистическую, - но и религия, и язык не были разделительными силами до появления монотеизма (христианского, исламского) и письменных языков. Прошлый и нынешний экстремизм и нетерпимость, считает Р.Фрай, должны быть преодолены, и в этом смысле известная концепция С.Хантингтона о конфликте цивилизаций и угрозе "классических" (межгосударственных и т.п.) войн должна быть опровергнута самой жизнью. Главная опасность - так называемые "внутренние варвары" - террористы и подобные им., и новые люди - "хорошие" граждане мира - могут отстоять будущее, лишь уважая собственное наследие и в то же время ценности других.8 На фоне нынешнего всплеска международного экстремизма, прежде всего в форме военно-политического панисламизма, социально-культурная парадигма Р.Фрая может показаться чрезмерно оптимистичной, но ее научный пафос и "категорический императив" заключается в объективной необходимости установления некоего, приемлемого большинством, баланса человеческих ценностей. Предпринятая выше попытка научно-биографического описания некоторых об- стоятельств жизни и карьеры виднейшего американского исследователя Центральной Азии Ричарда Фрая через призму его афганского опыта показывает, что научная компетентность и экспертный потенциал в пределах этой уникально широкой и многоплановой дисциплины возможны лишь на основе фундаментальной образованности, включая знакомство с достижениями различных (в том числе советской/российской) научных школ, досконального знания предмета, активной, но и сбалансированной жизненной позиции, а иногда - и изрядной доли романтизма, граничащего с авантюризмом. Пример Р.Фрая демонстрирует высокие рубежи мировой востоковедной науки и в то же время ее пределы как интеллектуального инструмента преобразования мира во второй половине ХХ - начале ХХI веков.
|